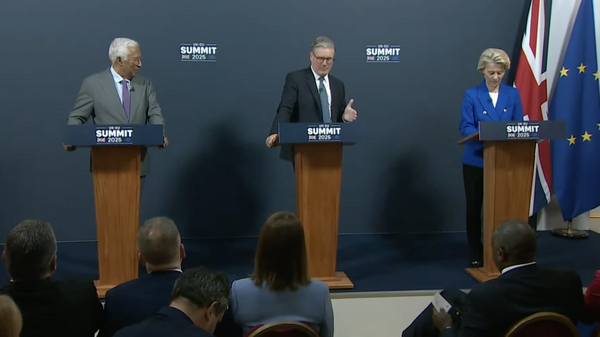https://ukraina.ru/20250520/katerina-kirbireva-o-tom-chto-neobkhodimo-rossii-chtob-ne-proigrat-ekonomicheskuyu-voynu-zapadu-1063254781.html
Катерина Кирбирева о том, что необходимо России, чтоб не проиграть экономическую войну Западу
Катерина Кирбирева о том, что необходимо России, чтоб не проиграть экономическую войну Западу - 20.05.2025 Украина.ру
Катерина Кирбирева о том, что необходимо России, чтоб не проиграть экономическую войну Западу
Преподаватель экономической теории и популярный блогер Катерина Волкова (Кирбирева) о том, как стратегическое планирование спасло СССР в годы Великой Отечественной войны, в чем секрет экономического чуда Китая и чего не хватает России для экономического успеха.
2025-05-20T07:00
2025-05-20T07:00
2025-05-20T07:00
китай
россия
ссср
адольф гитлер
нато
вто
ростех
сво
экономика
российская экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/14/1063258085_158:40:752:374_1920x0_80_0_0_28ca507fc30c24a7b7871c2103a20366.jpg
— Катерина, Запад делал ставку на экономическое истощение России. Политика США долгое время заключалась в том, чтобы давать Украине ровно столько денег и оружия, чтобы она могла долго воевать с Россией, но без угрозы мировой ядерной войны. Задавить нас не задавили, но все же инфляция, история с ключевой ставкой и другие факторы говорят о том, что все не слишком радужно. Можно ли воевать, не опасаясь за судьбу своей экономики?— Любая война — это, прежде всего, война экономик. Производство техники и оружия, снабжение фронта и тыла, в конце концов, подвоз пищи на фронт — все это обеспечивается экономикой, и советская плановая экономика во время Великой Отечественной войны показала себя исключительно эффективной. А значение знаменитого ленд-лиза не следует преувеличивать. В отдельных наименованиях поставляемых товаров он был значительным, но в целом это всего лишь пара процентов от нашего промышленного производства.Давайте не забывать, что война Советского Союза с Гитлером – это не просто война с Германией. На стороне фашистов были ресурсы почти всей Европы. До нападения на СССР Гитлер забрал ресурсную и промышленную базу огромного количества самых развитых стран на континенте. Когда фашисты вторглись на советскую территорию, почти сразу была изолирована треть нашей экономики, причем в самой развитой части страны. То есть Советский Союз сражался, имея в руках только две трети от своих довоенных возможностей. Поэтому задача такого уровня сложности, которая в тот момент предстала перед СССР, не могла быть решена без плановой экономики.Я имею в виду, что, когда предприятие, в частности военное предприятие, находится в частной собственности, когда его хозяин преследует свои интересы, появляется большой соблазн нагреть руки на военных заказах. Каждый частный собственник заинтересован в максимизации своей собственной прибыли. Все остальное — второстепенно или вообще не важно. А наше государство смогло сконцентрировать всю экономику в единый кулак, а значит единолично решать, каким образом распоряжаться имеющимися ресурсами. Какое огромное значение, например, имела переброска предприятий за Урал! Это же было сделано буквально за несколько месяцев! Было бы это возможно сделать с частными предприятиями?До Великой Отечественной войны у нас механизировали сельское хозяйство. Без этого было бы невозможно не только побороть голод. За счет механизации крестьяне смогли уехать в города и заниматься промышленным производством. А промышленный бум обеспечил население потребительскими товарами и такими социальными гарантиями, как, скажем, декретные отпуска. Ну и прирост населения на 16% с 1926 по 1939 год. Это были очень тяжелые годы, но люди не боялись заводить семьи, потому что видели, что жизнь становится лучше. Взять те же сталинские снижения цен 1 апреля каждого года. Что такое снижение цен с экономической точки зрения? Это повышение производительности труда. За счет применения новой техники и новых технологий, на производство единицы продукции тратится все меньше и меньше времени. Затраты на производство единицы продукции снижаются, а значит можно снизить и цены. И они были снижены, в том числе на военную продукцию. Тот же танк Т-34 к концу войны производить стало в два раза дешевле. Кроме того, плановая экономика позволяет не ориентироваться на трудозатраты в установлении цен. Поскольку все хозяйство находится в одних руках, возможно выделить жизненно необходимые продукты и поставить на них очень низкие цены, ниже цены их производства, а на предметы роскоши — цены поднять и тем самым перераспределить трудовые затраты в рамках всей экономики, сбалансировать ее.А давайте посмотрим на современность и вспомним все эти нашумевшие истории про снаряды, которые Запад закупает для Украины — с момента начала СВО их цена выросла в несколько раз. Так поступают во время войны капиталистические монополии. Почему? Потому что воюющее государство вынуждено покупать эту продукцию — больше просто негде. В такой момент наступает триумф частных военных производителей. Представьте себе ситуацию, когда воюющей стране нужны снаряды и есть предприятие, которое может их поставить, но цену на продукцию выставляет его хозяин, причем не из расчета интересов воюющей страны, а с целью лично обогатиться. И, снова же, если посмотреть на современную Европу, то эти производители получили гарантированные заказы до 2030 года.— Много говорят о том, что военные заказы поднимут европейскую экономику. Да и нашу тоже. Это действительно так работает?— С точки зрения макроэкономики, да. Особенно, если речь идет об экономике страны, на территории которой идет война. Военное производство обычно опирается на государственные субсидии. Госзаказ — это гарантированный сбыт. В предприятия вливаются деньги, затем они закрывают сырье, материалы, оборудование у смежников и деньги растекаются по всей экономике. Кроме того, деньги растекаются по экономике через зарплаты. Военные заводы нанимают больше персонала, людям повышают зарплаты, они покупают больше потребительских товаров, производители этих товаров получают больше прибыли и имеют возможность расшириться. А еще военные технологии, которые всегда передовые, то есть имеют потенциал оказаться локомотивом для развития гражданской сферы. Но для того, чтобы потенциал реализовался, нужно обеспечить трансфер в гражданские отрасли и соответствующий рынок сбыта. У нас в России, к сожалению, связь между научно-техническими разработками и гражданским сектором производства разорвана. С начала 2000-х у нас начали восстанавливать связь науки с военной отраслью, что и позволяет сейчас вести военные действия в условиях, когда противника обеспечивает блок НАТО, но в гражданских отраслях этого не произошло. Осталось, конечно, кое-что вроде микроэлектроники, но в таких мизерных масштабах, что на военную сферу еще как-то хватает, а гражданскую уже нет. Причем наши лаборатории получают патенты на замечательные открытия, но до реального сектора они не доходят, хотя заинтересованных энтузиастов полно.— Так почему они не могут найти друг друга?— Потому что Россия находится не в вакууме. Мы на мировом рынке, да еще и являемся участником ВТО. На наш рынок поставляются товары из любых стран. Сейчас из-за санкций есть некоторые изменения, но товары все равно попадают, особенно из дружественных стран. Есть Китай — мировая фабрика. Там такой масштаб производства, с которым конкурировать не может вообще никто. Там целые фабрики-города, где затраты труда на производство единицы продукции за счёт роботизации, за счёт инфраструктуры, за счёт связи, за счет эффекта масштаба — просто минимальные. И при этом у них государственные субсидии, господдержка, налоговые льготы и так далее.У них очень интересная стратегия выхода на мировой рынок: они ставят очень маленькую норму прибыли, чем побивают западные монополии, выставляющие норму прибыли 20%, 50%, 60%. В американской фарминдустрии недавно был скандал. Оказалось, что в США продаются за 1000 долларов лекарства, которые в Европе стоят 80 долларов. И это одни и те же фирмы. Американцы возмутились, а им ответили, что корпорациям нужно зарабатывать, поэтому они и ставят такую цену. А китайцы выходят на мировой рынок с очень маленькой для монополий нормой прибыли, которая фактически согласована с государством, и там порядка 5%. Конечно, с ними никто не может конкурировать в рамках свободного рынка.Возвращаясь к нам, какое оборудование купит потребитель — наше или китайское, учитывая разницу в масштабах производства и разницу в цене? Государство говорит, что через тендеры дает фору российским производителям, скажем, в 15%, но у вас разница в цене с китайцами не на 15%, а в 3-4 раза. В таких условиях нашим производителям остается регистрировать продукцию в России, а затем заказывать ее в Китае и просто ставить на ней свой логотип. Безобразие? Да. Но давайте по-честному, если у собственника предприятия появляется возможность получить прибыль — он от этого откажется? А зачем? Это с его стороны было бы просто глупо. Ведь, если не этот конкретный предприниматель, то другой.— И что теперь, закрыться от Китая? Натравить правоохранителей на нечистоплотных предпринимателей? Силой заставить покупать отечественное?— Если какие-то меры и предпринимают, то в основном именно такие. Только кнут. Что делать, чтобы корова меньше ела и давала больше молока? Меньше кормить и больше доить. И еще пинать посильнее. Но давайте, раз уж Китай так успешен, обратим еще раз внимание на его опыт. Что нужно предприятию, чтобы начать производить конкурентоспособную продукцию? Деньги. Ему нужны деньги, чтобы закупить сырье, материалы, оборудование, рабочую силу. А на этом этапе возникает вопрос — есть ли у нас достаточное количество квалифицированной рабочей силы? Нет, у нас дефицит. Рабочих надо готовить. Далее — сырье, материалы. Они есть отечественные? И вот, Центральный банк говорит, что он занимается сдерживанием инфляции, а по поводу промышленного производства — это к Минпромторгу. Хорошо, Минпромторг дает предприятию деньги, оно выходит на российский рынок, чтобы купить сырье и материалы, а их нет. Закупайте иностранное. Из-за этого наши предприятия ограничиваются сборкой. Закупают что где могут, собирают здесь, выдают собранное за местное производство и радуются. Но если у нас все-таки цель построить суверенную экономику, то смежные отрасли тоже нужно поднимать. А это снова деньги.Деньги у нас поступают в экономику через банковскую систему путём кредитования. Тогда возникает следующий вопрос — какой кредитный процент нормален для экономики? У нас сейчас ключевая ставка 21%. Это катастрофически много. Ставка, по которой предприятие может взять деньги в кредит берется не из головы, а исходя из нормы прибыли этого предприятия. Очевидно, если норма прибыли 10%, ты не можешь отдать банку деньги, взятые под 21%, а с маржой коммерческих банков — еще больше. А для того, чтобы конкурировать с мировыми лидерами, недостаточно просто сохранять производство, его нужно постоянно расширять, а значит вкладывать все больше и больше. Как это сделать, если у промышленности норма прибыли всего несколько процентов?— Выходила большая статья, где глава Ростеха называл норму прибыли предприятий этой корпорации в районе 3-4%. А это, между прочим, огромная корпорация с передовыми технологиями.— Так и есть. Для тяжелой промышленности существующая ставка неподъемна. Но и ставка в 10% неподъемна. То, что нужно — это 2-3-4%.— Почему тогда Центробанк делает то, что делает?— Потому что в экономике есть много разных субъектов. Есть не только тяжёлая промышленность, а есть, например, лёгкая промышленность. Там норма прибыли выше, допустим, 15%. Есть торговля. Там норма прибыли ещё выше, потому что оборот более быстрый и нужна сравнительно небольшая сумма денег, которую ты постоянно прокручиваешь — купил, продал, купил, продал. За год одну сумму можно прокрутить десятки, а то и сотни раз. В тяжёлой промышленности это невозможно. В авиастроении один оборот занимает полтора года. То есть полтора года ты не получаешь ни копейки, а тебе нужно платить зарплату работникам, тебе нужны материалы, сырье, электроэнергия, выходит из строя оборудование. А отдавать кредит под 30%. Кто может такое выдержать? Финансовые спекулянты худо-бедно, но и они уже не могут. Легкая промышленность не может. Gloria Jeans закрылась.— Казалось бы, из-за санкций ушли многие западные бренды, появилось место для своих.— Из-за денежной политики этого места нет. Мелкие и средние предприятия просто банкротятся, а крупные становятся монополистами. В условиях кризиса могут развиваться только монополии. А у нас сейчас именно кризис, поскольку растут цены и снижается потребительский спрос. Итак, расширятся могут только монополисты, у которых есть собственные средства и им не надо идти в банк за неподъемным кредитом. У промышленников собственных средств почти нет, они есть только у финансового сектора. Уже третий год в экономике проблемы, а у банковского сектора рекордные прибыли. Ну и у платформ типа Wildberries, Ozone, Яндекс, конечно, все хорошо. Они создали свои логистические системы, они запускают свои бренды, которые в выдаче оказываются первыми. Да и Сбер уже не просто финансовый институт. Это технологическая компания со своим искусственным интеллектом, доставкой, едой, Маркетом, Самокатом и еще бог знает чем. В общем, растет монополизация. А подлесок из всякого мелкого бизнеса, который мог бы закрывать временно незанятые ниши, сокращается.— Можно ли в нынешних условиях, прежде всего условиях СВО, применить какие-то моменты позитивного опыта СССР или Китая, чтобы решить насущные проблемы?— Можно. Возьмем опыт Китая, потому что СССР все-таки был довольно давно и там собственность на средства производства была в основном общественной. В Китае есть гигантский частный сектор, наличие которого и позволяет перенести его подходы в современную Россию, показав, как государство может стать локомотивом, который тащит за собой частный сектор в общественных интересах. Если государство подчиняет частные предприятия своим целям, то может их направлять куда нужно совершенно рыночными инструментами: госзакупками, субсидиями, льготными кредитами, процентными ставками, развитием частных научно-исследовательских разработок под государственным крылом, подготовкой специалистов. Для этого нужно, конечно же, национализировать ключевые отрасли экономики. А то получается, что у нас самая большая в мире страна, у нас есть собственная ресурсная база, на которой можно производить все, что угодно, но цены на то, что мы добываем из собственных недр устанавливаются на лондонских и нью-йоркских биржах, причем не только для внешней торговли, но и для внутренней. Мы почему-то покупаем собственные природные ресурсы по ценам, которые установлены не в России. Так что у нас потенциально все есть, осталось только собрать звенья воедино, чтобы обеспечить развитие под руководством государства.— А дефицит кадров? Кто пойдет работать на новые промышленные предприятия?— Это вопрос часто задают, но в XXI веке он несерьезный. В Южной Корее, где самый высокий в мире уровень роботизации, на 10 тысяч человек приходится порядка полутора тысяч роботов. В Китае — 470 роботов на 10 тысяч человек. Формально сильно меньше, но в Китае гигантское население, поэтому вообще-то он очень сильно роботизирован. Порт Гуанчжоу, город в городе, один из самых больших портов в мире, роботизирован полностью. А сколько роботов на 10 тысяч человек в России? Тринадцать! У нас такой большой задел для роботизации, что о нехватке кадров вообще не нужно говорить. С помощью техники и технологий количество человек, производящих определенное количество продукции, можно не просто сократить, а очень сильно сократить. Поэтому наша главная проблема не нехватка кадров, а отсутствие системного взаимодействия отраслей. Нам не хватает не людей, а комплексного стратегического планирования.— Конституционный суд принял решение по поводу национализации того, что было приватизировано в 90-х, скажем так, против общественных интересов. Учитывая, что против общественных интересов было приватизировано все, то это решение вселяет робкую надежду.— Очень робкую, потому что мы никуда не уходим от рыночных методов. Но все же это однозначно прогрессивное решение. Возможно, оно поможет тяжелой промышленности и особенно оборонной сфере стать локомотивом развития всей экономики. Если, конечно, национализированные предприятия не будут снова приватизированы, просто кем-то другим. Слышали такое выражение, как национализация убытков и приватизация прибыли? Оно означает, что в трудные для частников времена они перекладывают свои проблемы на плечи государства. Сейчас, для решения сиюминутной проблемы, что-то может быть национализировано и во время войны даже будет работать на благо общества, но что потом? Обратная приватизация? Распродажа станков на металлолом, как это уже было? Будем надеяться на лучшее.Ключевая же мысль, которую я хочу донести, — у нас есть все для решения экономических проблем, но сделать это можно только работой слаженной системы. Я не спроста начала разговор с опыта Советского Союза, где министерства, отраслевые ведомства и предприятия работали по определенному плану. Сейчас это объективная необходимость, потому что в развитом капитализме ни одна экономика в мире не росла с нуля до конкурентоспособного уровня за счет рыночных механизмов.О новых мерах по экономическому давлению на Россию — в материале "ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"
https://ukraina.ru/20250519/london-i-bryussel-soglasovali-oboronnyy-fond-a-putinu-i-trampu-pozhelali-udachi-1063250052.html
https://ukraina.ru/20250210/1060950432.html
китай
россия
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
китай, россия, ссср, адольф гитлер, нато, вто, ростех, сво, экономика, российская экономика, санкции, рынок, интервью
— Катерина, Запад делал ставку на экономическое истощение России. Политика США долгое время заключалась в том, чтобы давать Украине ровно столько денег и оружия, чтобы она могла долго воевать с Россией, но без угрозы мировой ядерной войны. Задавить нас не задавили, но все же инфляция, история с ключевой ставкой и другие факторы говорят о том, что все не слишком радужно. Можно ли воевать, не опасаясь за судьбу своей экономики?
— Любая война — это, прежде всего, война экономик. Производство техники и оружия, снабжение фронта и тыла, в конце концов, подвоз пищи на фронт — все это обеспечивается экономикой, и советская плановая экономика во время Великой Отечественной войны показала себя исключительно эффективной. А значение знаменитого ленд-лиза не следует преувеличивать. В отдельных наименованиях поставляемых товаров он был значительным, но в целом это всего лишь пара процентов от нашего промышленного производства.
Давайте не забывать, что война Советского Союза с Гитлером – это не просто война с Германией. На стороне фашистов были ресурсы почти всей Европы. До нападения на СССР Гитлер забрал ресурсную и промышленную базу огромного количества самых развитых стран на континенте. Когда фашисты вторглись на советскую территорию, почти сразу была изолирована треть нашей экономики, причем в самой развитой части страны. То есть Советский Союз сражался, имея в руках только две трети от своих довоенных возможностей. Поэтому задача такого уровня сложности, которая в тот момент предстала перед СССР, не могла быть решена без плановой экономики.
Я имею в виду, что, когда предприятие, в частности военное предприятие, находится в частной собственности, когда его хозяин преследует свои интересы, появляется большой соблазн нагреть руки на военных заказах. Каждый частный собственник заинтересован в максимизации своей собственной прибыли. Все остальное — второстепенно или вообще не важно. А наше государство смогло сконцентрировать всю экономику в единый кулак, а значит единолично решать, каким образом распоряжаться имеющимися ресурсами. Какое огромное значение, например, имела переброска предприятий за Урал! Это же было сделано буквально за несколько месяцев! Было бы это возможно сделать с частными предприятиями?
До Великой Отечественной войны у нас механизировали сельское хозяйство. Без этого было бы невозможно не только побороть голод. За счет механизации крестьяне смогли уехать в города и заниматься промышленным производством. А промышленный бум обеспечил население потребительскими товарами и такими социальными гарантиями, как, скажем, декретные отпуска. Ну и прирост населения на 16% с 1926 по 1939 год. Это были очень тяжелые годы, но люди не боялись заводить семьи, потому что видели, что жизнь становится лучше.
Взять те же сталинские снижения цен 1 апреля каждого года. Что такое снижение цен с экономической точки зрения? Это повышение производительности труда. За счет применения новой техники и новых технологий, на производство единицы продукции тратится все меньше и меньше времени. Затраты на производство единицы продукции снижаются, а значит можно снизить и цены. И они были снижены, в том числе на военную продукцию. Тот же танк Т-34 к концу войны производить стало в два раза дешевле. Кроме того, плановая экономика позволяет не ориентироваться на трудозатраты в установлении цен. Поскольку все хозяйство находится в одних руках, возможно выделить жизненно необходимые продукты и поставить на них очень низкие цены, ниже цены их производства, а на предметы роскоши — цены поднять и тем самым перераспределить трудовые затраты в рамках всей экономики, сбалансировать ее.
А давайте посмотрим на современность и вспомним все эти нашумевшие истории про снаряды, которые Запад закупает для Украины — с момента начала СВО их цена выросла в несколько раз. Так поступают во время войны капиталистические монополии. Почему? Потому что воюющее государство вынуждено покупать эту продукцию — больше просто негде. В такой момент наступает триумф частных военных производителей. Представьте себе ситуацию, когда воюющей стране нужны снаряды и есть предприятие, которое может их поставить, но цену на продукцию выставляет его хозяин, причем не из расчета интересов воюющей страны, а с целью лично обогатиться. И, снова же, если посмотреть на современную Европу, то эти производители получили гарантированные заказы до 2030 года.
— Много говорят о том, что военные заказы поднимут европейскую экономику. Да и нашу тоже. Это действительно так работает?
— С точки зрения макроэкономики, да. Особенно, если речь идет об экономике страны, на территории которой идет война. Военное производство обычно опирается на государственные субсидии. Госзаказ — это гарантированный сбыт. В предприятия вливаются деньги, затем они закрывают сырье, материалы, оборудование у смежников и деньги растекаются по всей экономике. Кроме того, деньги растекаются по экономике через зарплаты. Военные заводы нанимают больше персонала, людям повышают зарплаты, они покупают больше потребительских товаров, производители этих товаров получают больше прибыли и имеют возможность расшириться.
А еще военные технологии, которые всегда передовые, то есть имеют потенциал оказаться локомотивом для развития гражданской сферы. Но для того, чтобы потенциал реализовался, нужно обеспечить трансфер в гражданские отрасли и соответствующий рынок сбыта. У нас в России, к сожалению, связь между научно-техническими разработками и гражданским сектором производства разорвана. С начала 2000-х у нас начали восстанавливать связь науки с военной отраслью, что и позволяет сейчас вести военные действия в условиях, когда противника обеспечивает блок НАТО, но в гражданских отраслях этого не произошло. Осталось, конечно, кое-что вроде микроэлектроники, но в таких мизерных масштабах, что на военную сферу еще как-то хватает, а гражданскую уже нет. Причем наши лаборатории получают патенты на замечательные открытия, но до реального сектора они не доходят, хотя заинтересованных энтузиастов полно.
— Так почему они не могут найти друг друга?
— Потому что Россия находится не в вакууме. Мы на мировом рынке, да еще и являемся участником ВТО. На наш рынок поставляются товары из любых стран. Сейчас из-за санкций есть некоторые изменения, но товары все равно попадают, особенно из дружественных стран. Есть Китай — мировая фабрика. Там такой масштаб производства, с которым конкурировать не может вообще никто. Там целые фабрики-города, где затраты труда на производство единицы продукции за счёт роботизации, за счёт инфраструктуры, за счёт связи, за счет эффекта масштаба — просто минимальные. И при этом у них государственные субсидии, господдержка, налоговые льготы и так далее.
У них очень интересная стратегия выхода на мировой рынок: они ставят очень маленькую норму прибыли, чем побивают западные монополии, выставляющие норму прибыли 20%, 50%, 60%. В американской фарминдустрии недавно был скандал. Оказалось, что в США продаются за 1000 долларов лекарства, которые в Европе стоят 80 долларов. И это одни и те же фирмы. Американцы возмутились, а им ответили, что корпорациям нужно зарабатывать, поэтому они и ставят такую цену. А китайцы выходят на мировой рынок с очень маленькой для монополий нормой прибыли, которая фактически согласована с государством, и там порядка 5%. Конечно, с ними никто не может конкурировать в рамках свободного рынка.
Возвращаясь к нам, какое оборудование купит потребитель — наше или китайское, учитывая разницу в масштабах производства и разницу в цене? Государство говорит, что через тендеры дает фору российским производителям, скажем, в 15%, но у вас разница в цене с китайцами не на 15%, а в 3-4 раза. В таких условиях нашим производителям остается регистрировать продукцию в России, а затем заказывать ее в Китае и просто ставить на ней свой логотип. Безобразие? Да. Но давайте по-честному, если у собственника предприятия появляется возможность получить прибыль — он от этого откажется? А зачем? Это с его стороны было бы просто глупо. Ведь, если не этот конкретный предприниматель, то другой.
— И что теперь, закрыться от Китая? Натравить правоохранителей на нечистоплотных предпринимателей? Силой заставить покупать отечественное?
— Если какие-то меры и предпринимают, то в основном именно такие. Только кнут. Что делать, чтобы корова меньше ела и давала больше молока? Меньше кормить и больше доить. И еще пинать посильнее. Но давайте, раз уж Китай так успешен, обратим еще раз внимание на его опыт. Что нужно предприятию, чтобы начать производить конкурентоспособную продукцию? Деньги. Ему нужны деньги, чтобы закупить сырье, материалы, оборудование, рабочую силу.
А на этом этапе возникает вопрос — есть ли у нас достаточное количество квалифицированной рабочей силы? Нет, у нас дефицит. Рабочих надо готовить. Далее — сырье, материалы. Они есть отечественные? И вот, Центральный банк говорит, что он занимается сдерживанием инфляции, а по поводу промышленного производства — это к Минпромторгу. Хорошо, Минпромторг дает предприятию деньги, оно выходит на российский рынок, чтобы купить сырье и материалы, а их нет. Закупайте иностранное. Из-за этого наши предприятия ограничиваются сборкой. Закупают что где могут, собирают здесь, выдают собранное за местное производство и радуются. Но если у нас все-таки цель построить суверенную экономику, то смежные отрасли тоже нужно поднимать. А это снова деньги.
Деньги у нас поступают в экономику через банковскую систему путём кредитования. Тогда возникает следующий вопрос — какой кредитный процент нормален для экономики? У нас сейчас ключевая ставка 21%. Это катастрофически много. Ставка, по которой предприятие может взять деньги в кредит берется не из головы, а исходя из нормы прибыли этого предприятия. Очевидно, если норма прибыли 10%, ты не можешь отдать банку деньги, взятые под 21%, а с маржой коммерческих банков — еще больше. А для того, чтобы конкурировать с мировыми лидерами, недостаточно просто сохранять производство, его нужно постоянно расширять, а значит вкладывать все больше и больше. Как это сделать, если у промышленности норма прибыли всего несколько процентов?
— Выходила большая статья, где глава Ростеха называл норму прибыли предприятий этой корпорации в районе 3-4%. А это, между прочим, огромная корпорация с передовыми технологиями.
— Так и есть. Для тяжелой промышленности существующая ставка неподъемна. Но и ставка в 10% неподъемна. То, что нужно — это 2-3-4%.
— Почему тогда Центробанк делает то, что делает?
— Потому что в экономике есть много разных субъектов. Есть не только тяжёлая промышленность, а есть, например, лёгкая промышленность. Там норма прибыли выше, допустим, 15%. Есть торговля. Там норма прибыли ещё выше, потому что оборот более быстрый и нужна сравнительно небольшая сумма денег, которую ты постоянно прокручиваешь — купил, продал, купил, продал. За год одну сумму можно прокрутить десятки, а то и сотни раз. В тяжёлой промышленности это невозможно. В авиастроении один оборот занимает полтора года. То есть полтора года ты не получаешь ни копейки, а тебе нужно платить зарплату работникам, тебе нужны материалы, сырье, электроэнергия, выходит из строя оборудование. А отдавать кредит под 30%. Кто может такое выдержать? Финансовые спекулянты худо-бедно, но и они уже не могут. Легкая промышленность не может. Gloria Jeans закрылась.
— Казалось бы, из-за санкций ушли многие западные бренды, появилось место для своих.
— Из-за денежной политики этого места нет. Мелкие и средние предприятия просто банкротятся, а крупные становятся монополистами. В условиях кризиса могут развиваться только монополии. А у нас сейчас именно кризис, поскольку растут цены и снижается потребительский спрос.
Итак, расширятся могут только монополисты, у которых есть собственные средства и им не надо идти в банк за неподъемным кредитом. У промышленников собственных средств почти нет, они есть только у финансового сектора. Уже третий год в экономике проблемы, а у банковского сектора рекордные прибыли. Ну и у платформ типа Wildberries, Ozone, Яндекс, конечно, все хорошо. Они создали свои логистические системы, они запускают свои бренды, которые в выдаче оказываются первыми. Да и Сбер уже не просто финансовый институт. Это технологическая компания со своим искусственным интеллектом, доставкой, едой, Маркетом, Самокатом и еще бог знает чем. В общем, растет монополизация. А подлесок из всякого мелкого бизнеса, который мог бы закрывать временно незанятые ниши, сокращается.
— Можно ли в нынешних условиях, прежде всего условиях СВО, применить какие-то моменты позитивного опыта СССР или Китая, чтобы решить насущные проблемы?
— Можно. Возьмем опыт Китая, потому что СССР все-таки был довольно давно и там собственность на средства производства была в основном общественной. В Китае есть гигантский частный сектор, наличие которого и позволяет перенести его подходы в современную Россию, показав, как государство может стать локомотивом, который тащит за собой частный сектор в общественных интересах.
Если государство подчиняет частные предприятия своим целям, то может их направлять куда нужно совершенно рыночными инструментами: госзакупками, субсидиями, льготными кредитами, процентными ставками, развитием частных научно-исследовательских разработок под государственным крылом, подготовкой специалистов. Для этого нужно, конечно же, национализировать ключевые отрасли экономики.
А то получается, что у нас самая большая в мире страна, у нас есть собственная ресурсная база, на которой можно производить все, что угодно, но цены на то, что мы добываем из собственных недр устанавливаются на лондонских и нью-йоркских биржах, причем не только для внешней торговли, но и для внутренней. Мы почему-то покупаем собственные природные ресурсы по ценам, которые установлены не в России. Так что у нас потенциально все есть, осталось только собрать звенья воедино, чтобы обеспечить развитие под руководством государства.
— А дефицит кадров? Кто пойдет работать на новые промышленные предприятия?
— Это вопрос часто задают, но в XXI веке он несерьезный. В Южной Корее, где самый высокий в мире уровень роботизации, на 10 тысяч человек приходится порядка полутора тысяч роботов. В Китае — 470 роботов на 10 тысяч человек. Формально сильно меньше, но в Китае гигантское население, поэтому вообще-то он очень сильно роботизирован. Порт Гуанчжоу, город в городе, один из самых больших портов в мире, роботизирован полностью. А сколько роботов на 10 тысяч человек в России? Тринадцать! У нас такой большой задел для роботизации, что о нехватке кадров вообще не нужно говорить. С помощью техники и технологий количество человек, производящих определенное количество продукции, можно не просто сократить, а очень сильно сократить.
Поэтому наша главная проблема не нехватка кадров, а отсутствие системного взаимодействия отраслей. Нам не хватает не людей, а комплексного стратегического планирования.
— Конституционный суд принял решение по поводу национализации того, что было приватизировано в 90-х, скажем так, против общественных интересов. Учитывая, что против общественных интересов было приватизировано все, то это решение вселяет робкую надежду.
— Очень робкую, потому что мы никуда не уходим от рыночных методов. Но все же это однозначно прогрессивное решение. Возможно, оно поможет тяжелой промышленности и особенно оборонной сфере стать локомотивом развития всей экономики. Если, конечно, национализированные предприятия не будут снова приватизированы, просто кем-то другим. Слышали такое выражение, как национализация убытков и приватизация прибыли? Оно означает, что в трудные для частников времена они перекладывают свои проблемы на плечи государства. Сейчас, для решения сиюминутной проблемы, что-то может быть национализировано и во время войны даже будет работать на благо общества, но что потом? Обратная приватизация? Распродажа станков на металлолом, как это уже было? Будем надеяться на лучшее.
Ключевая же мысль, которую я хочу донести, — у нас есть все для решения экономических проблем, но сделать это можно только работой слаженной системы. Я не спроста начала разговор с опыта Советского Союза, где министерства, отраслевые ведомства и предприятия работали по определенному плану. Сейчас это объективная необходимость, потому что в развитом капитализме ни одна экономика в мире не росла с нуля до конкурентоспособного уровня за счет рыночных механизмов.